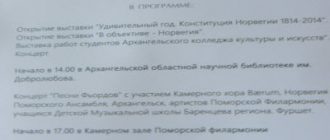Часто его называли Дон Кихотом. Но в отличие от Дон Кихота, умиравшего в лачуге, престарелый Дали в последние годы жизни затворился от людей в собственном великолепном замке
на своей родине, в Испании, в провинции Каталония, и замок этот с обстановкой, изготовленной для Дали в единственном экземпляре по его рисункам, сравнивать, таким образом, не с чем.
Как впрочем, не с чем сравнивать и живопись Дали. Она беспрецедентна. Конечно, в известном смысле беспрецедентна любая талантливая живопись. Но Дали был не только изумительно талантлив, но и умен.
Во всяком случае, лучше многих он понял, что во время духовного кризиса и пересмотра вековых представлений великое искусство не может не быть интеллектуальным, а
художник, не желающий оставаться духовным провинциалом, не может позволить себе работать непосредственно, что называется, как бог на душу положит, что эта возможность (несомненно, счастливая) утрачена надолго, если не навсегда.
И он, Сальвадор Дали, создатель «критико-параноического метода», воспроизводящий на своих картинах смутные, больные, безотчетные состояния психики и тем самым — актом
воспроизведения освобождающийся от них (так психотерапевт избавляет пациента от навязчивых
видений, заставляя переводить их в слова), Дали —
галлюцинатор, мистик, Дали, заявляющий публике, что она уж, конечно, не понимает его картины, он и сам сплошь и рядом не понимает их, этот Дали — один из самых
логичных, последовательных и (скажем еще раз) умных художников нашего времени, сделавший живопись его зеркалом, приговором над ним и способом защиты от него.
Он художник-философ и художник-моралист, разумеется, на свой лад.
Писать о Дали, признаться, трудно. Очень уж долго, не видя его работ, мы слышали только сплетни о нем, иногда — злостно перевранные, иногда — более или менее достоверные, но даже и тогда те, кто говорил, как правило, плохо знали и еще хуже понимали, о чем говорят. И все это застряло в памяти.
Особенно его деньги многим не давали покоя. Он-де и рвач, и шарлатан, и растленный торгаш. Дали и правда стал мультимиллионером.
Годовой оборот его произведений на мировом художественном рынке оценивался в двадцать — тридцать миллионов долларов.
А начинал он вундеркиндом, отщепенцем в отчаянной бедности. С шести лет работал маслом. В четырнадцать устроил первую выставку. С пятнадцати писал статьи об искусстве. За своеволие его отец (нотариус) выгнал сына из дому.
В семнадцать Дали поступил в Мадридскую школу искусств, оттуда его тоже выгнали. Месяц он просидел в тюрьме («за анархизм»).
Он трудился как оглашенный, изучая старых мастеров. Книга Дали «50 магических тайн» открывается «десятью наставлениями» будущему художнику.
Одно гласит: «Если ты из тех, кто считает, что современное искусство превзошло искусство Вермера и Рафаэля, не берись за эту книгу и косней в блаженном идиотизме».
Другое: «Не бойся совершенства: тебе никогда не достичь его!» Это характерные для Дали слова. Сам крайний авангардист, он понимал авангард как роковую
деградацию искусства — следствие деградации культуры и человека, как судьбу, даже беду, и не видел в нем последнего слова или чего-то вроде земли обетованной.
Ему претили самодовольство и недалекий оптимизм рутинного авангарда. Он примкнул к сюрреалистам, чьими кумирами были в 20-х годах маркиз де Сад, поэт Лотреамон, Фрейд и Троцкий.
Дали интересовался каждым из них, больше, чем другими — Фрейдом. Он ездил в Вену на поклон к нему, беседовал,
нарисовал портрет, но чопорный и старомодный творец психоанализа отнесся к нему довольно сухо. И отнюдь не исключено, что Дали это понравилось.
Он дружил с поэтом Лоркой и кинорежиссером Бюнюэлем (вместе с которым снял знаменитый «Золотой век»), с Бретоном и Пикассо.
В 1929 году в жизни Дали появилась Гала. Она была русская — Елена Дьяконова, была женой Элюара и с ним, кстати, перевела на французский язык пьесы Блока.
Оставив Элюара, она ушла к Дали. Она была старше его. Он говорил, что любит ее больше, чем живопись, Пикассо и деньги, вместе взятые.
Женские образы на картинах Дали — это Гала. Многие картины подписаны двойным именем: «Гала-Дали».
«Гала — это муза, модель и королева творческой вселенной Дали,— свидетельствовал его биограф.— Их идеальный союз напоминает повести о любви минувших эпох». Когда Гала умерла, Дали перестал работать и затворился в своем замке.
Всего, разумеется, не расскажешь. И триумфальный путь Дали, и его баснословный успех во Франции, затем в Америке и во всем мире мы обойдем молчанием.
В автобиографии «Тайная жизнь Сальвадора Дали» он писал: «Мы с Гала… одинаково отстояли от художников Монпарнаса, от так называемого общества, сюрреалистов, коммунистов, монархистов, наркоманов, парашютистов, сумасшедших и буржуа.
Мы были в центре, чтобы сохранить равновесие»,— тут, по сути дела, программа его жизни. Отстоять — не значило сторониться; это значило соблюдать дистанцию.
«Разница между сюрреалистами и мной,— говорил он,— в том, что сюрреалист — это я». Конечно, в этих словах бравада, если угодно — эпатаж, но также и очень глубокий смысл.
И все-таки почему Дон Кихот? «Душа человека в наши дни холодает, как бродяга или бездомный пес»,— сказал однажды Дали.
Таков, значит, его душевный опыт, несмотря на славу, деньги, любовь и неистовый вдохновенный труд. И всей своей жизнью и живописью он стремился пробиться к чему-то другому, найти спасение, вернуться на родину в холодном мире.
Удалось ли ему? Бог весть. Но, как и Рыцарь Печального Образа, Дали — духовный скиталец. Искусство Дали — прекрасное и страшное искусство. Оно правдиво и очень честно.
Перечислим несколько самых знаменитых картин Дали. Это «Секунда перед пробуждением» (нагая Гала, спящая на льдине, и прыгающие на нее тигры страшного сна с ружьями, вылетающими из раскрытой пасти), «Постоянство памяти», «Мягкое время», «Метаморфозы
Нарцисса», «Шесть видений Ленина на рояле» (мужчина перед раскрытым роялем в черной комнате, перед ним — стул
с вишнями, а на клавиатуре — шесть одинаковых ленинских портретов в светящихся ореолах), «Предвосхищение
гражданской войны», «Горящий жираф» (на переднем плане скелетоподобные гиганты с выдвижными ящиками в груди и на ногах, жираф со спиной в огне, коричневая пустыня, на горизонте — горы), «Впечатление об Африке».
Все эти картины были написаны Дали в 30-х годах. Тогда же появился и «Завтрак»

Тут — устойчивые мотивы-видения Дали: пустыня, вдалеке золотисто-коричневатый горный ландшафт, словно взятый у старых итальянцев, Леонардо да Винчи, например, а на переднем плане — в
принципе нераспознаваемый сюрреалистический объект, какой-то механизмо-организм, орудующий ослепительно сверкающим ножом и вилкой, и сгустившиеся красные пятна (кровь?), свисающие как лоскуты.
Это протокол кошмара; такова суть. Но разве кошмаров не бывает (хотя бы во сне)? И не существующий в природе предмет-монстр выдуман художником не ради него самого, а ради тех
полумыслей, получувств, полувоспоминаний, которые он властно вызывает у нас своей бесспорной пластической убедительностью.
«Смысл моих картин,— говорил Дали,— настолько глубок, сложен, связан, непроизволен, что ускользает от простого логического анализа». Конечно, он прав, но и в непонятном бывает своя если не прямая ясность, то чувственная правдивость.
Автор: В. АЛЕКСЕЕВ